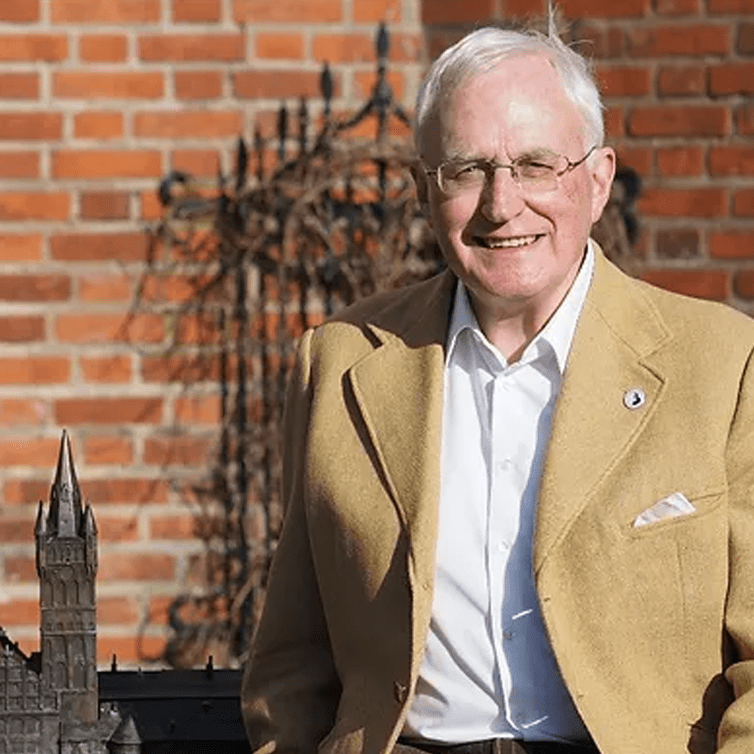Кант в дискурсе «технологий надежды»
«Технология надежды» Канта узнается как «самая честная надежда Просвещения» на возможность создания моральной интерсубъективности бытия. Ее необходимость отчетливо проявляется на фоне «коперниканского поворота» Канта, открывшего новую субъектоцентрическую онтологию, выживание которой зависит от вопроса, возможна ли свобода, то есть от того, способен ли человек к практической реализации свободной причинности морального закона. Самой историей Калининград призван стать окном в «онтологию совести» Канта.
«Die Technologie der Hoffnung» Kants, die die Entwicklung der moralischen Intersubjektivität des Daseins erstrebt, erscheint die ehrlichste unter den Hoffnungsphilosophien der Aufklärung. Ihre maßgebende Bedeutung lässt sich vor dem Hintergrund der „Kopernikanischen Wende“ erkennen mit der Einsicht in die Angewiesenheit der Zivilisationsgeschichte auf die Frage, ob die Freiheit möglich ist. Durch die Geschichte selbst ist Kaliningrad berufen, ein Fenster in die kantische „Ontologie der Hoffnung“ zu öffnen.
Ключевые слова: гетерономный и автономный принципы реальности, онтологический разрыв, субъектоцентрическая онтология, интерсубъективность «практического разума».
1. Просвещение и современность
В эпоху европейского Просвещения именно Кёнигсберг, благодаря Канту, претендовал на то, чтобы стать одной из столиц не только «чистого разума», но и «вечного мира». Но так уж сложилось, что именно исторический Кёнигсберг стал одним из самых трагических знаков в европейской истории: по оценке Клауса Гарбера, Кёнигсберг стал «эмблемой апокалипсиса»[1], то есть эмблемой перманентного катастрофизма мировой истории, в которой со всей отчетливостью проявляется какая-то окаянная саморазрушительная неспособность человечества, герменевтическая и праксиологическая, перевести в практику бытия самые сокровенные мечты каждого человека, давно узнанные как относящиеся к имманентному «коду добра» трансцендентальной субъектности. На фоне всей своей исторической драматургии эта эмблема Кёнигсберг предстает как серьезный повод для окончания затянувшегося «конфликта интерпретаций» и для герменевтической определенности по поводу двух противопоставленных эсхатологических перспектив мировой истории:
- с одной стороны, апокалиптическая перспектива «воли к смерти», вызванная (по меньшей мере, с точки зрения противоречивого «кенигсбергского логоса») отчуждением от богоцентрической субъективности в онтодинамике бытия (Гаман) или же предательством «морального закона» (Кант);
- с другой стороны, сотериологическая перспектива «воли к жизни», а именно к новому качеству «здесь-бытия» (Хайдеггер), к «синэргийной онтодинамике» (С.С.Хоружий), будь это онтологический диалог между Богом и человеком (Гаман) или же праксис воли «морального закона» (Кант).
Кант и Гаман – пожалуй, самые значимые явления духовной истории Кенигсберга – при всех принципиальных отличиях друг от друга (автономный антропоцентризм vs богоцентризм) одинаково высоко ценили видного просветителя Г. Э. Лессинга, прежде всего, за то, что Гаман в своем письме к Гердеру от 9 декабря 1781 г. назвал «живое стремление к истине» в Лессинге. «Живое стремление к истине» – вот что является главным заветом Просвещения для сегодняшнего мира. Смогло ли, однако, Просвещение проложить те «новые пути», о которых мечтал Лессинг и другие просветители? Или, может быть, оно не закончено, несмотря на то, что все же изменило векторность цивилизации в сторону критического «чистого разума» (Кант), не сумев, однако, убедить человечество в необходимости «практического разума»?
Сумело ли человечество найти путь из «состояния собственного несовершеннолетия» (Кант)? Остается ли современное мышление в состоянии быть «разговором о выходах» (Одо Марквард), то есть тем дискурсивным кодом, который обеспечивает человечеству способность принимать правильные решения для выхода из сложных ситуаций нарастающего катастрофизма истории? В состоянии ли нации и культуры создать те формы интерсубъективности, которые способны избавить человечество от аномии (Э.Дюркгейм) после его перехода из гетерономного принципа реальности в автономный? В условиях обостряющегося герменевтического скепсиса, прежде всего, в дискурсе постмодернизма с особой актуальностью звучат известные кантовские вопросы: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться?
Как раз на этом фоне актуализируется проблема герменевтической корректности в отношении известных «проектов надежды» и причин их крушения.
2. Кант и Лессинг
Большинство проектов немецкого Просвещения не завершены, будь то проект «философии терпимости» Моисея Мендельсона, или проект «воспитания человеческого рода» Лессинга, или проект «вечного мира» Канта… Кант, безусловно, занимает особое место в «проектах надежды», поскольку является «критической вершиной» Просвещения и автором «коперниканского поворота» в истории мышления. Суть этого поворота сводится к открытию того, что можно назвать «онтологическим разломом», вследствие которого объективная онтология стала «вещью в себе», что означает прощание с Аристотелевым «фюсисом» и признание в качестве единственной реальности субъектоцентрической онтологии, судьба которой оказывается в полной зависимости от человека. В дискурсе кантовской философии эта судьба зависит от праксиологического ответа на вопрос, стоящий в идейном эпицентре этой философии: это – вопрос о том, возможна ли свобода? Иначе говоря, способен ли человек с его «способностями понятий и идей» перевести в практику социально-политического действия свободную причинность «морального закона»? Если да, то тогда путь ведет к «всеобщему лучшему» (Лессинг), к осуществлению «всеобщего человеческого права на счастье» (Мендельсон), к «союзу народов на основе всеобщего права и к вечному миру» (Кант).
Для Лессинга, идеи которого сформировались в «докритический период» эпохи Просвещения, не характерно гносеологическое убеждение об «онтологическом разломе», открытом Кантом: Лессинг рассчитывает на гносеологию соответствия на основе доверия способности человеческой чувственности, в которой он, пожалуй, неосознанно для себя в условиях наступившей автономии открывает гетерономную направленность лежащих в основе его теории катарсиса экзистенциалов «сострадание» и «страх». Эти «вертикально» диспонированные психологические состояния оказываются в системе Лессинга его мостиками, паромами к природе, в которой он ищет истину. Именно этим обусловлена его теория реализма в «Гамбургской драматургии», принципиально отличающаяся от кантовской, поскольку, согласно «теории подражания» Лессинга, реальность представляет собой диалектический результат двух сосуществующих половин – природы и субъекта. «В природе, – пишет Лессинг в 70-м выпуске «Гамбургской драматургии», понимая под «природой» всю совокупную действительность природного и социального миров, – все со всем связано; все пересекается, все взаимообменивается друг с другом, все изменяется друг в друга.»[2] Люди стали бы беспомощными жертвами такого бесконечного разно- и многообразия, если бы у них не было способности «различать и направлять свое внимание на то, что изначально кажется хорошим.»[3] То, что в реальном мире «мы желаем различать или желаем мочь различать» в разно- и многообразии предметов, различает на деле искусство. Оно представляет нам предметы действительности и их сущностные взаимосвязи «так ясно и связно, как только это позволяет отразить чувства, кои они должны возбудить.»[4] И эти чувства обозначают одновременно «гуманистическую меру», в соответствии с которой в художественном произведении возникает та действительность, важнейшие черты которой «не могут быть затемнены и обезображены другими, имеющими ничтожную значимость.»[5]
Именно этим объясняется то, что Лессинг с готовностью присоединяется к суждению Аристотеля в «Поэтике»: «поэзия – более философична и полезнее, чем история, поскольку поэзия обращается больше к общему, а история к особенному»[6] – так Лессинг переводит Аристотеля в 89-м выпуске, что соответствует оригиналу.
Без дальнейшего углубления в теорию искусства Лессинга отметим, однако, два аспекта: во-первых, явную сопряженность аристотелевско-лессингского понимания понятия «всеобщего» с идеалом взыскуемой в «Гамбургской драматургии» интерсубъективности тонко чувствующей и моральной нации; во-вторых, «эстетическую надежду» Лессинга на чувственную способность людей соединиться в этой интерсубъективности, пережив очищение «в царстве красоты» по причине непрекращающегося, неразрывного единства природы и истины, манифестируемого в коде прекрасного. Но уже Кант, этот «херувим с пламенным мечом обращающимся» (Бытие 3, 25), проводит предостерегающую границу, напрямую касающуюся понимания истины и надежды у Лессинга: Эстетическое воспитание создает экзистенциальный баланс между «свободной игрой познавательных способностей» при эстетическом восприятии и моральным этосом только при условии доминирования нравственного начала в нас над природным. Это основополагающее положение эстетики Канта является идейной вершиной §59 «Критики способности суждения» под названием «О красоте как символе нравственности».
Кант и Лессинг различаются как «Должно» и «Есть»: лессинговское присутствие истины в нравственном существе – это то, что Шиллер затем вкладывает в понятие «прекрасной души» в своей переписке с Гёте или в понятие «дитя дома» в сочинении «О прелести и достоинстве». Эта модальность чувства истины в «здесь-бытии» (Хайдеггер) понимается Лессингом как склонность к добродетели, проявляющаяся в «свободной игре» чувств. По Канту же, эта чувственная модальность есть лишь «признак хорошей души», свидетельствующий «по меньшей мере о благоприятной моральному чувству настройке нрава». Но здесь и проходит граница: если для Лессинга, а затем Шиллера и романтизма, решающим является истина чувства, то для Канта – свободная истина долженствования, проявляющаяся в воле «морального закона». Именно долг, нередко противоположный многому, что есть в природе чувств, тому, что часто в конфликте с «игрой» наших склонностей и желаний. Так, в противоположность к известному тезису Шиллера в его «Письмах об эстетическом воспитании человечества» о том, что «только красота открывает путь, который ведет к свободе»[7] (важно иметь в виду текст немецкого оригинала: «Weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert»[8], кантовскую позицию можно обобщить следующим образом: «только свобода открывает путь, который ведет к красоте». Именно в этом заключена тайна §59 «Критики способности суждения» Канта под названием «О красоте как символе нравственности». Парадокс кантовского метода заключается в том, что представление о «предмете», будь это природа, произведение искусства или поступок в их явлении, никогда не может быть причиной свободной способности суждения, то есть никогда не может обусловливать, задавать свободную волю, или предшествовать моральному закону. Единственной свободой человека является именно свобода морального закона, который, согласно Канту, непосредственно пребывает в разуме как способность желания, обнаруживающая собственную заданность внутри самой себя, то есть как именно ни чем и ни кем не обусловленная свободная воля. Но важно понять то, что непосредственно определяющий волю моральный закон также задает объекты как то, что пребывает в согласии с этой свободной волей. Кант утверждает: «В этом способность суждения не подчинена, как в эмпирическом суждении, гетерономии законов опыта; по отношению к предметам такого чистого благоволения она сама устанавливает для себя закон, подобно тому, как это делает разум по отношению к способности желания»[9]. То есть, когда разум законодательствует в способности желания, сама способность желания законодательствует над объектами. Поэтому практический разум – как закон свободной причинности – сам должен, по Канту, обладать причинностью в отношении явлений. Практический интерес разума Кант определяет как отношение разума к объектам, но не для того, чтобы знать их, а для того, чтобы осуществить их. Поэтому в кантовской системе рассуждений «красота» предстает как самоосуществление объекта, причина которого заключена в свободной воле, то есть в нравственности. Красота, по Канту, не есть «объект побуждения к игре»[10] между «предметом чувственного побуждения» и разумом: она не пребывает в «гравитации» чувственного объекта, она вся – в «гравитации» морального субъекта, в причинообразующем поле его «способности идей»…
Нетрудно заметить, что эстетическая теория как Лессинга, так и Шиллера, отмечена «искушением» классического принципа, основанного на представлении о том, что человек в своем «здесь-бытии» уже «встроен» в предустановленную целокупность объективной онтологии или же способен к ней приобщиться и утолить тем самым свою жажду по целостности и свободе. Но это находится в противоречии с «коперниканским поворотом» Канта, «открывшего» непреодолимость «онтологической дистанции» между субъектом и объектом и «открывшего» новую субъектоцентрическую онтологию, судьба которой полностью зависит от человека, а точнее от его способности изменить мир не просто в направление «чистого», но, прежде всего, «практического разума». Именно этот последний составляет сокровенную суть мирового сценария Просвещения и причину всей последующей «философской тоски» истории, что, например, символическим образом отразилось в дневниковой записи от 1918 г. молодого Макса Хоркхаймера, одного из основателей Франкфуртской школы: «Тоска – вот моя сущность.» Это – тоска по «humanitas», по «человечности» мысли и дела. Эта тоска характерна не только для критической теории Франкфуртской школы, но и для экзистенциальной литературы и философии Хайдеггера, Ясперса и Сартра, для философской герменевтики, прежде всего, в лице Г.- Г. Гадамера и для многих других попыток реабилитации «практического разума» Просвещения в осознании того, что грандиозные обещания и надежды проекта реальности Нового времени до сих пор остаются не осуществленными. Эта незавершенность является причиной возникновения «игровых пространств» с известными «игроками» – Космос против Хаоса, Эрос против Танатоса, Аполлон против Диониса, свобода против причинно-следственного детерминизма, Жизнь против Смерти, которая всегда стремится сделать человека своей «игрушкой», будь это посредством «принципа удовольствия» (Фрейд), или посредством «воли к власти» (Ницше), или посредством голого экономизма…
3. Кант и «остров надежды»
Но все же именно Кант с его надеждой на человеческую способность возвышенных желаний, укорененную в факте, казалось бы, ничем не обусловленной воли к моральному поступку предстает как реалистическая перспектива для человечества. Философия надежды Канта узнается как честная надежда на фоне его «коперниканского поворота», открывшего новую субъектоцентрическую онтологию, выживание которой зависит от вопроса, возможна ли свобода, то есть от того, способен ли человек к практической реализации свободной причинности морального закона? Если «да», то путь ведет к «свободному союзу народов» и «вечному миру»; если «нет», то – к «вечному миру на церковном погосте человеческого рода». Следует подчеркнуть, что сама история подтверждает правильность кантовского прозрения в реальность «онтологического разрыва», о чем свидетельствует также философия и литература постмодернизма. Трагизм «кантовского логоса», прежде всего, в том, что Кант – «Коперник философии» – изменил мир в направление «чистого разума», но не смог добиться главного – изменить его в направление «практического разума».
Этот «дефицит Канта», или дефицит добра стал безусловным поводом для одного из самых драматичных писателей калининградской литературы Юрия Иванова назвать свой последний роман – роман судьбы – «Танцы в крематории»[11], посвященный литературнохудожественному осмыслению опыта ада Кенигсберга в первые послевоенные месяцы. Само название – апокалиптическая метафора, но не только для города, сожженного бомбежками (прежде всего, ковровыми бомбежками англо-американской авиации в конце августа 1944) и штурмом весны 1945 и для его полуживых теней (детей и стариков поверженного в прах Кенигсберга), но и для всего человечества. Художественный гений Иванова не ошибся в его диагнозе Кенигсберга, трансформирующегося в Калининград, поскольку в своем опыте страдания тех, кто стал заложником войны и всеобщего безумия, порождающего войны, он прозрел в хрупкую грань между виновниками и жертвами, когда различие почти не различаемо. И это при том, что Юрий Иванов, родившийся в Ленинграде в 1928 году, вступил в полуразрушенный Кенигсберг в апреле 1945 как трубач в составе похоронной команды одного из подразделений Красной Армии и был одним из тех, кто разрушал, разбивал, крушил, потому что все немецкое казалось фашистским после трех лет блокады Ленинграда и после тысяч и тысяч погребенных им в неисчислимых братских могилах солдат и офицеров Красной Армии. Но какой-то великий гений русской духовности в нем сумел разглядеть, различить и в конце концов понять всю трагичность человеческой истории, сведенной им к общему метафорическому знаменателю «танцев в крематории». И в этом «крематории» человеческой истории уже не спасает то, на что так рассчитывали все отчаянные ренессансы мировой драмы, – любовь. В романе Иванова русско-немецкими Ромео и Джульеттами оказываются героический капитан-танкист Николай Белов, подбивший в своем последнем бою 7 «тигров» и потерявший левую ногу, и простая немецкая девушка Виктория, «робкая душа» завоеванного Кенигсберга. Но любовь не спасает и не примиряет враждебные миры: Викторию в процессе массовой депортации немцев высылают в Германию, Николай – «два ордена Отечественной войны, три Красного Знамени, и еще большущий редкий орден Александра Невского, да и медали»[12] – лишен воинского звания и боевых наград за «любовь к представительнице вражеского населения». А потом «холодно, спокойно со мной попрощался. Отправился к себе домой и застрелился. Из пистолета. Вот сюда, посреди бровей…»[13] Это – предпоследние слова автора в последней главе под названием «Прощание навсегда».
И в этом прощании ясно узнается и еще что-то, по-настоящему христианское и доброе, что-то, что повторилось с еще более ясной отчетливостью в фотографической исповеди калининградского фотографа Дмитрия Вышемирского под названием «Кенигсберг, прости»[14]. «Странный город. Странствующий. Неприкаянный […] Город, притаившийся в истории и в мыслях своих жителей. Кто Ты? Кенигсберг? Калининград? Не знаю. Но я знаю, что Ты – мой город. Я люблю Тебя уже больше сорока лет – столько, сколько помню себя»[15].
В этой исповеди чистых сердец узнается то, что ближе всего к сокровенной сути «русской идеи», сформулированной, например, в знаменитой речи Ф.М.Достоевского на пушкинском празднике в Доме русской словесности в Москве 1880 г.: «Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу Петра, но, несомненно, уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высокую цель. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций»[16]. Русское «Прости!» Иванова и Вышемирского получает в контексте этого духовного завещания великого писателя общечеловеческое звучание, ставя перед народами задачу поиска общего духовного интеграла, который понимается Достоевским как творческий синтез и взаимопроникновение на основе евангельского закона жизни. И в этой связи в «островной идее» Кенигсберга-Калининграда обнаруживается мощный фактор исконной духовной пассионарности русского народа: «… стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»[17]…
В этом «Прости» узнается, с одной стороны, евангельское слово Христа: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Мтф. 5, 43) С другой, кантовское убеждение в том, что «истинная политика не может сделать шага, не присягнув заранее морали, и хотя политика сама по себе – трудное искусство, однако соединение ее с моралью вовсе не искусство, так как мораль разрубает узел, который политика не в состоянии распутать до тех пор, пока они спорят друг с другом»[18].
Поэтому, несмотря на «ад истории», отказавшейся от закона Любви Христа и от «морального закона» Канта, несмотря на постмодернистскую усталость в поисках «формулы жизни» для человечества, у человечества все еще остается время для создания новой онтологии Надежды.
И само провидение уготовило Калининграду миссию быть «заложником» этой онтологии, а именно – онтологии морального принципа, необходимость которой для выживания человечества доказывал Кант, назначив моральный закон мостом не только к вечному миру, но и к Богу. Само имя Канта – Иммануил – означает в древнееврейском языке «Бог с нами». И вряд ли стоит русскому Православию испытывать духовную аллергию в отношении Канта, не постигнувшего идею единосущности Христа и Бога, Сына и Отца, в чем упрекал Канта и его кенигсбергский антипод Гаман. Кант, несмотря на дуалистическое «эпохе»[19] эпохи Просвещения, не отрекается от того, что и богоцентрическое сознание признает сущностно необходимым – от «категорического императива» совести. Собственно, единственным региональным проектом для сложного региона Калининград должен стать «проект Иммануил», призванный «открыть окно» в «онтологию совести», основой которой является гражданское общество с приоритетами долга, ответственности, терпимости, образования.
Вольно или невольно большинство политиков, историков, да и простых людей, понимают, что регион Калининград занимает особое место в «сценариях будущего», особенно в «сценарии Надежды», поскольку является своеобразным перекрестком, на котором пересекаются дорогие многих стран, ведущие в будущее. Но это не только геополитический или «технологический» перекресток между Россией и ЕС. В большей мере, это – духовно-нравственный перекресток, своеобразная духовно-политическая сверхзадача. В этом смысле Калининград мог бы стать поистине «звездным перекрестком» со своей особой «технологией Надежды», о которой мечтали и мечтают многие в нашем мире, стать центром нового Просвещения, в развитии которого узнается и особая миссия Российского государственного университета имени Иммануила Канта. За последние годы этот университет стал мощным научным и образовательным центром, призванным к тому, чтобы в «точке бифуркации[20]» современной цивилизации содействовать жизненно необходимой реабилитации «практического разума» Канта с целью установления в мире единственной диктатуры, способной противостоять расчеловечеванию человека и создать условия для общепланетарной интерсубъективности – диктатуры Совести.
[1] Garber K. Apokalypse durch Menschenhand // Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2001. S. 3.
[2] Lessing G.E. Hamburgische Dramaturgie. In: Lessings Werke in fünf Bänden. Hg. von den nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Volksverlag Weimar, 1963. Bd. 4. S. 342.
[3] Ebenda.
[4] Ebenda.
[5] Ebenda.
[6] В «Поэтике» Аристотель пишет: «поэзия – философичнее и полезнее истории, так как поэзия больше говорит об общем, а история – о единичном» (1451 b 5).
[7] Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 7 томах. М.: «Художественная литература», 1955-1957.Т.6. С.254.
[8] Schiller F. Sämtliche Werke. 5 Bde. Herausgegeben von Wolfgang Riedel. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH Co. KG, München. München, 2004. Bd.5. S.573.
[9] Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. Юбилейное издание 1794 – 1994 / Под ред. А. В. Гулыги. Т. 5. М.: Изд-во «Чоро», 1994. Т.6.С.196.
[10] Там же. С.300.
[11] См.: Иванов Ю. Танцы в крематории. Десять эпизодов кенигсбергской жизни. Калининград, 2006.
[12] Там же. С. 135.
[13] Там же. С. 378.
[14] Вышемирский Д. Кенигсберг, прости. PICTORICA publishing: Poland, 2007.
[15] Там же. С. 236.
[16] Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 10 т. М., 1958. Т. 10. С. 457.
[17] Там же. С. 458.
[18] Кант И.Собрание сочинений в 8 томах. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 49.
[19] Эпохе (от греч. - остановка, прекращение) – в феноменологии Гуссерля выступает как средство, с помощью которого предмет или положение вещей путем феноменологической редукции выключается из обычных эмпирических связей. В результате предмет входит как идея-сущность в сферу «чистого сознания», благодаря чему сознанию открывается сам «смысл» предмета.
[20] Бифуркация (от лат. bifurcus – раздвоенный) – разветвление в траектории движения системы в определенной точке.